Мой сегодняшний собеседник Павел Толстогузов — профессор Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема в Биробиджане. Человек открытый, искренний, профессионал своего дела. Поэтому и разговор наш получился, на мой взгляд, непростым и, следовательно, небезынтересным для читателей «МЗ».
Поначалу, Павел, не очень сложный и, возможно, странный вопрос: Вам нравятся биробиджанские евреи?
— Вопрос в самом деле странный. Среди биробиджанских евреев, как и среди других российских сообществ, есть люди, которые мне нравятся и которые в силу разных причин мне не нравятся. При этом категория «нравится — не нравится» меньше всего связана для меня с этническим или вероисповедным признаком. Здесь вступает в силу система индивидуальных ценностей, а не вопросы происхождения. Евреем можешь ты не быть, но приличным человеком быть обязан. Когда мне что-то резко не понравится, я не буду говорить: блин, задолбали меня эти биробиджанские евреи. Я буду думать по-другому и найду другие слова.
Таким был мой первый вариант ответа на этот вопрос. Затем, подумав, я пришел к выводу, что Вы, Леонид, могли иметь в виду «биробиджанских евреев» как исторически сложившуюся необычную российскую общность. Т.е. как уникальную группу людей, чья уникальность сформирована исключительными по своему своеобразию политическими обстоятельствами ХХ века. И здесь я должен ответить уже иначе: да, мне нравится это явление. Оно нравится мне не только так, как может нравиться раковина с завитками в «неправильную» сторону, но и как особая атмосфера места, где я живу.
Российский Дальний Восток вообще не вполне обычное место, а его биробиджанская составляющая необычна вдвойне. Если же говорить о человеческих качествах биробиджанских евреев, то, возможно, мне повезло: я приятельствовал и продолжаю приятельствовать с теми из них, кто нравится мне как человек, с кем я могу не лукавить. Как с Сашей Драбкиным, например. Со многими из биробиджанцев, уехавшими из Биробиджана, я знаком только по переписке, но это не мешает мне чувствовать в них тот же человеческий замес, который знаком мне по ежедневным впечатлениям.
Мы ходим с ними под одним и тем же биробиджанским летним полднем — в памяти или наяву. И под ярким зимним полднем тоже. Когда в нееврейской среде мне начинают говорить «евреи то, евреи сё», я обычно отвечаю, что каким бы ни был отдельный наступивший мне на пятку еврей, лично я даже в этом случае постараюсь не ссориться с народом Книги. Ну если уж совсем достанет… И эта моя позиция сформировалась именно в Биробиджане.
После всех этих объяснений я чувствую, что ничего не объяснил. Так всегда бывает, когда пытаешься объяснить, почему тебе что-то «по нраву». В памяти есть предельно выразительные эпизоды встреч с теми стариками, кто приехал сюда в 30-е и 40-е совсем детьми, но вряд ли наше интервью предполагает жанр таких зарисовок. Кстати, есть еще один, очень конкретный смысл выражения «биробиджанские евреи». Это евреи, которые и сейчас живут в Биробиджане, которые не уехали из него или уехали и вернулись. Это мои земляки, которые по разным причинам не смогли или не захотели преодолеть свое биробиджанство, и такой выбор, на мой взгляд, можно только уважать. Это мне тоже нравится.
А как Вы оказались в Биробиджане? Когда это произошло? Несколько слов – об ожиданиях, надеждах, опасениях, если они были. Что сбылось спустя годы, что не сбылось?
Я, выпускник Ленинградского университета и аспирантуры Герценовского института, приехал в Биробиджан в 90-м году, как раз в начале т.н. «Большой Алии» (это я понял несколько позднее). Тогда мне исполнился 31 год. Причина была вполне прозаичной и очень понятной для свидетелей того времени: жилье. До этого я несколько лет работал в Уссурийском пединституте и жил с семьей в общежитии. Никаких особых опасений, кроме тех, которые сопровождают любой переезд на новое место, у меня не было. Более того, не было даже ясных исторических представлений об истории еврейского переселенчества на Дальний Восток. Имена Бориса Миллера и Любы Вассерман были мне тогда неизвестны (улица Миллера стала известна мне раньше, чем биография этого замечательного биробиджанца). Казакевича и его зрелое творчество я, разумеется, знал, но о биробиджанском периоде его жизни не знал ничего. Надежды были связаны с карьерным ростом в новом вузе — Биробиджанском пединституте. В целом они оправдались: прошел почти все ступени аудиторной и административной работы (доцент, профессор, зав. кафедрой, декан, проректор, директор Издательского центра). Поначалу специфику Биробиджана я почувствовал, когда жил в привокзальной гостинице в первые месяцы своей работы здесь. Идиш, на котором говорило местное радио, был для меня отчасти понятен — я тогда неплохо знал немецкий язык.
Классический Биробиджан, стоящий на преданиях 1930-х годов и на культуре переселенцев, — город, озвученный уличным идишем, — я, к сожалению, не застал. Застал лишь вторичный ренессанс Биробиджана, связанный с идеологическим и культурно-просветительским энтузиазмом 90-х годов. Это было отчасти похоже на ясный призыв горна в пустом пионерском лагере. Потом этот ренессанс вошел в берега нового российского федерализма, и все встало на свои места. Что сбылось? Сейчас смешно сказать, но я совсем не собирался жить в Биробиджане четверть века… Тем не менее живу и, наверное, умру здесь. Значит, что-то сбылось. Не то, о чем мечтаешь по молодости, а что-то иное, более важное. Здесь выросли два моих сына, родилась внучка (не знаю, насколько это важно для нашей беседы, но в ней есть еврейская кровь). Здесь я строю дом. Здесь меня узнают на улице. Здесь живут мои еврейские друзья, которые знают цену мне так же хорошо, как я знаю цену им.
Расскажите об институте-университете: сколько сейчас в нем учится молодых, какие факультеты самые «расхватываемые». Как обстоит дело с изучением языка идиш и литературы на нем?
Нынешний Приамурский университет им. Шолом-Алейхема начинался как Биробиджанский пединститут (1989—2005) и Дальневосточная социально-гуманитарная академия (2005—2011). Сейчас в нем учится около полутора тысяч студентов, в лучшие годы училось до двух с половиной тысяч. «Лучшие годы» — это годы до проявления последствий т.н. демографической ямы и до ужесточения образовательной политики. Как и по всей России, значительная часть молодежи пока что выбирает «пепси», т.е. специальности, сулящие неплохой заработок и не требующие сейчас почему-то рабочих мозговых усилий: экономика, юриспруденция, таможенное дело и т.п.
До середины 2000-х годов инерционно, чтобы оправдать еще советский заказ на культурную специфику автономии, мы готовили студентов по специальности англо-идиш (английский язык и идиш). Потом специальность умерла естественной смертью — отсутствовал спрос, область не была готова предоставлять выпускникам рабочие места.
По чести сказать, покойный Лев Гринкруг (ректор ПГУ с 2006 по 2014, необычайной энергии и деловитости человек), профессор Бар-Иланского университета Борис Котлерман и Ваш покорный слуга во второй половине «нулевых» приложили определенные усилия для того, чтобы еврейское образование в биробиджанской высшей школе имело перспективу, но увы — не всё в человеческих силах. К сожалению, выросла когорта администраторов, полагающих, что символизм вывесок вполне может заменить реальное просвещение. И дешевле ведь…
Я бы на Вашем месте еще спросил так: есть ли в аудиториях молодые евреи? Отвечаю: да, есть. Иногда попадаются очень толковые. Кстати, биробиджанский еврей — это неизбежная метисизация. Дело не в крови — тут, как ни странно, дело иногда оказывается вполне чистым. Я имею в виду другое: биробиджанский еврей — это дважды культурный метис. Или трижды? Наверное, все же трижды: Восточная Европа, Россия, Дальний Восток. (В более дальние исторические дали не хочу забираться). От этого он, разумеется, не перестал быть евреем. Вопрос идентификации для него превращается в увлекательную смысловую интригу, в хорошее подспорье для мозгов. Но если два десятка лет назад частица еврейской крови была по большей части лицензией на выезд, то сейчас, по моим наблюдениям, это повод для построения гораздо более широких смысловых горизонтов. Если Вы захотите спросить, о каких горизонтах идет речь, я обещаю подумать над этим.
Спасибо за вполне конкретные и ясные ответы. Надеюсь, что и остальные ответы будут по делу. Кстати, о деле. И меня, и наших многочисленных читателей интересует девальвация (можете изменить это слово на любое другое) идеи еврейского образования в ЕАО на приведенном Вами примере шатаний влево-вправо Вашего университета. Чем же, как говорится, «душа успокоилась»? Нужен ли идиш в ЕАО? Если да, то кому и для чего? Если не нужен, то как быть с самой ЕАО? Зачем и кому тогда нужна эта национальная вывеска? Администрации? Чиновникам? Или тем 90 с лишним процентам нееврейского населения области?
— Леонид, мой университет вовсе не «шатался», как Вы выразились. Он до последнего боролся за идиш. Тот, кто знает деятельность Анатолия Сурнина и Льва Гринкруга, поймет мою правоту. Но на определенном этапе мы столкнулись с нежеланием правительства области принять хотя бы одно принципиальное решение по этому вопросу. (Например, ввести основы идиша и еврейской культуры в национально-региональный компонент во всех школах ЕАО.) Спрос на специалистов со знанием идиша просто исчез. Абитуриенты перестали подавать заявления. Так что ни о каких «шатаниях» речи быть не может.
Теперь о том, кому это нужно. Я уже неоднократно говорил об этом, сейчас просто повторюсь. Не сегодня и не вчера, а уже в 80-е годы, которые Вы, разумеется, хорошо помните, идиш (язык и культура) приобрел мемориально-символический смысл. Думаю, это было неизбежно. Причин, конечно, — воз и тележка… Плохо это? Для тех, кто напрямую воспринял импульс переселенцев, мечтавших о полноценной национальной автономии, это крушение надежд. Для остальных — повод рационально осмыслить место еврейской культуры в нынешней ЕАО.
Название области имеет ИСТОРИЧЕСКИЙ смысл, и поддержка этого исторического смысла должна иметь системный характер — вне сферы утопических надежд и дешевого политического нигилизма. Мне смешно и неловко за моих собеседников, когда они заводят свою старую пластинку о «еврейской области без евреев» и т.п. Ну хорошо: Бретань без бретонцев, Англия без англов, Россия без исторических русов (тех, которые скандинавы), Франция без франков — это нормально и законно?
Скажете, мол, примеры все какие-то стародавние… Хорошо. В современной России хватает исторических областей, где название области и ее традиционная языковая культура не быстро, но естественным образом переходят в сферу исторических воспоминаний. Например, Карелия (9% титульного этноса). Просто в ЕАО в силу известных причин все это произошло на глазах одного-двух поколений, т.е. довольно быстро. При том что евреи в ЕАО все-таки еще есть, и переход актуальной культуры в мемориальную продолжает совершаться на наших глазах. Название области — историческое, и поддержка культурно-исторического смысла этого названия и соответствующего отношения к нему у населения должна быть нормальной административной задачей.
Если угодно, у еврейской культуры в ЕАО должен быть охранный статус, какой бывает у исторических памятников. Помните, у Гоголя: попали мы в глушь, наткнулись на закоулок, зато какая глушь и какой закоулок! Уроженец области, кто бы он ни был по национальности, должен знать о Биробиджане не только пару сомнительных анекдотов, он должен в общих чертах знать историю еврейского переселенчества и азы той культуры, которую переселенцы принесли с собой. Кстати, странная вещь: я наблюдал нигилизм по отношению к области и ее культуре, в основном, со стороны либо туристов, либо от уехавших.
Один из последних сказал мне довольно откровенно: какие после нас здесь евреи… так, неудачники. Так вот, я хорошо понимаю психологическую подоплеку подобных высказываний, но совершенно не разделяю эту точку зрения. Монополии на истинное биробиджанство нет ни у кого. Принял в душу Биробиджан со всей его историей — вот и биробиджанец. Все остальное принадлежит эгоцентрической формуле «вы все пассажиры, а я д’Артаньян».
Всеволод Львович Вихнович говаривал мне во время своих приездов сюда: «Если б Вы знали, с каким интересом относятся люди из петербургской общины к Биробиджану!» Казалось бы, какое дело высоколобым питерским евреям до Биробиджана? А вот такое — им интересно. Биробиджан — место, которое способно порождать очень сильный интерес к себе. Подчас просто жгучий интерес. Слово «Биробиджан» в тексте русской культуры, как мне приходилось уже писать, содержит особое усиление, эмфазу, звучание которой не связано напрямую с количеством биробиджанских евреев. «Это уже заповедник Клио, что вы мне, господа, морочите голову своими процентами…».
А Вам никогда не хотелось бросить это безнадежное дело и перебраться то ли в близкий душе Питер, то ли куда-нибудь в Воронеж, и преподавать там литературу, знакомить студентов с творчеством великих русских поэтов Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского?
— Дело не кажется мне безнадежным. О причинах см. выше. Вообще вопрос «безнадежности» связан с характером надежд. Для еврейского максималиста, который мыслит в логике «или целиком еврейская (область), или никакая», надежды рухнули — будем честны друг с другом — уже в 30—40-е. Для более умеренных товарищей интрига продолжается. Не могу сказать, что я такой уж борец за еврейскую культуру, который каждый день закрывает собой пару-другую пулеметных точек. Вовсе нет. Для профессиональных единоборств в этой области я плохо (поверхностно) знаю еврейскую культуру, и вообще — моя песня несколько иная… Но я здесь живу и имею свой взгляд и на название территории, и на ее перспективы. Исторический контекст области имеет отчетливую прописку в моей лекционной риторике. Уезжать не хочу, мне здесь, как уже было сказано, интересно. Одна из существенных составляющих этого интереса — история области и ее смысловой статус в русской культуре.
В 90-е годы меня посещала тяга к перемене мест (обострявшаяся во времена всяческих дефолтов), но это было ситуативно-возрастное — пока не перебесился. Сейчас меня будет довольно непросто выковырять отсюда… А в Питер мне не нужно уезжать, он всегда со мной. Тот ряд имен, который Вы привели в своем вопросе, — Пастернак, Мандельштам, Бродский, — важен для меня. Прежде всего Осип Мандельштам. Вместе с Заболоцким он образует для меня коллективного Пушкина ХХ века. Да, еврей Мандельштам — великий русский поэт. Да, Еврейская автономная область — одна из исторических территорий России. Я чувствую здесь некую общую логику. А Вы?
Этот вопрос моего собеседника – «А Вы?» — как бы предлагает продолжить разговор. И я не могу не ответить профессору Толстогузову.
Для меня ЕАО, Биробиджан – не «историческая территория России».
Это моя личная территория, территория души.
Это, прежде всего, память детства, мой дом на Шолом-Алейхема, 12, во дворе которого мы с Изькой Шурицом и Аликом Стысисом гоняли тяжеленный мяч со шнуровкой.
Это деревянные скрипучие тротуары, красивый – и тоже деревянный — теремок парикмахерской, где работали волшебники дядя Миша Гомберг и дядя Рома Дехтяр.
Это небольшой колокол на стене вокзального здания, в который бил начальник станции «Биробиджан» Вендеров, извещая об отбытии поезда «Владивосток – Москва».
Это сквер напротив кинотеатра «Биробиджан», где старики не просто читали, но и обсуждали прочитанное в «Биробиджанер штерн».
Это мои соседи Бузи Шильман и Миша Шейн – еврейские актеры, пережившие вместе со страной гибель еврейского театра в СССР и уничтожение его корифеев.
Это моя Люба, еврейская поэтесса Любовь Вассерман, которая в своей тесной квартирке всегда угощала меня чаем с бейгелах.
Это Ицик Бронфман, с которым мы частенько угощались в «железке» отнюдь не чаем.
Это мой спор с Ромой Шойхетом о судьбе «Биробиджанер штерн» — надо ли публиковать еженедельное приложение на русском языке, чтобы привлечь к газете новых читателей.
И у меня еще сотни подобных «это»…
Увы, этого Биробиджана больше нет. Вернее, он есть, он жив, он сохранился – в памяти.
И где бы мы ни собирались за столом – в Иерусалиме, Нью-Йорке, Торонто, Москве или Мюнхене, — мы неизбежно приходим к разговору о нашем городе, который у каждого свой, но всё же один на всех…
И мы, несмотря ни на что, желаем ему добра – того добра, которое много десятилетий назад он щедро дарил нам.

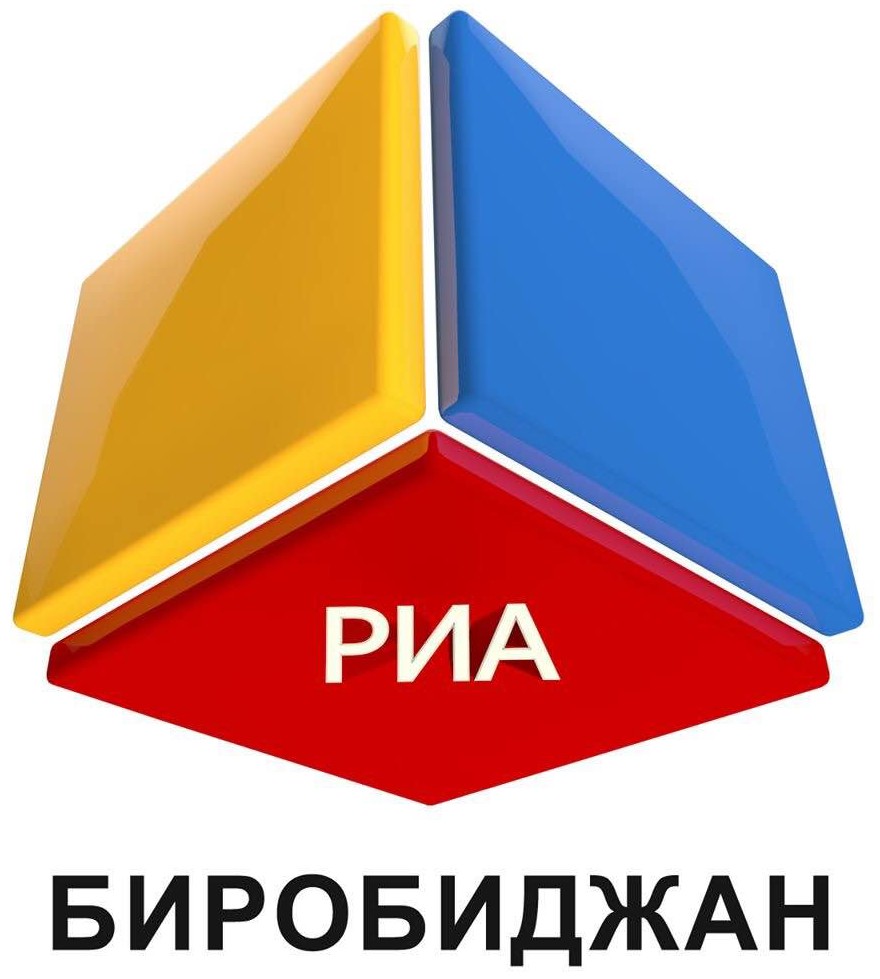
 ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО
ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО

 ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО
ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО










