Нина Майзлер, Тель-Авив
Конечно, дети, как правило, почитают родителей, ценят их и благодарят за «счастливое детство». Но, вырастая, улетая из родительского дома, мы порой забываем о той великой и самоотверженной любви, которую дарили нам наши мамы и папы. К сожалению, не все дети знают свою родословную, не все готовы рассказать о своих родителях то, чего не знает никто – какими они были дома, в повседневном быту, как воспитывали детей. Некоторые из наших общих знакомых, несмотря на настойчивые просьбы, так и не удосужились написать хотя бы страничку текста о своих родителях. А ведь не напишут они – значит, не напишет никто…
Автор публикуемых ниже заметок – счастливое исключение. С ней (с Ниной Майзлер, которая сегодня носит фамилию Аранович и живет в Бейт-Шемеше под Иерусалимом) мы учились в одном классе биробиджанской средней школы №2. И сегодня я рад представить вам ее удивительный рассказ об отце, так много сделавшем для становления религиозной жизни в Биробиджане. Эти заметки Нины – самый яркий и самый добрый ему памятник. Эре зайн ондэнк!
Леонид Школьник, Иерусалим
Я живу на своей исторической родине, на земле своих предков, Окно моей квартиры выходит на синагогу. В шабат я просыпаюсь от голосов, доносящихся из нее. Я подхожу к окну и наблюдаю за выходящими из синагоги людьми: солидные пожилые мужчины и совсем юные выходят из одной двери, женщины — из другой. Все — в праздничных одеждах и, конечно, с детьми: мальчики в кипах, а девочки — в нарядных платьицах.
В праздники здесь особенно много детей. Я смотрю на них и завидую. Этим детям не приходится стесняться своих родителей за то, что они верят в Бога, за то, что ходят в синагогу. Они и не представляют себе, что где-то можно жить иначе. Веру в Бога впитывают с молоком матери, и никто не может повлиять на формирующееся с раннего детства мировоззрение. Да, здесь, в Израиле, легко быть евреем, если только захотеть.
Мой отец, Борух Майзлер, хотел быть евреем на другой родине, где родился и вырос. Евреем не только по паспорту, но и по убеждению. Он верил в Бога, ходил в синагогу. А в 1938 году был вдруг арестован и осужден. За что? Наверное, за то, что хотел быть евреем. А семью потерял, потому что в ней все были евреями. Жену и детей уничтожили фашисты. Судьба так придавила Боруха, что, казалось, ему уже никогда не выпрямиться. Но маленький лучик счастья снова засиял для него уже в конце войны, там, в ссылке, где ему разрешили жить и где родилась я.
Новая семья, новые радости. Любимая жена и маленькая дочь с символическим именем Нехама (утешенне), родившаяся сразу после Победы над Германией. Но вот только жена тяжело больна, и вреден ей климат Киргизии. Борух попросил сменить ему с семьей место проживания. Сменили. Киргизию заменили Дальним Востоком. «Отправляйся туда, где грязь и сырость, где суровая зима в короткое лето». Обрадовался Борух: в еврейскую область едет, в маленький Израиль, как думал он тогда. Вот только любимая Сура не доехала до той «Земли обетованной», и прибыл туда Борух только с маленькой дочкой, то-есть со мной.

Борух Майзлер
«Вот тут-то я и начну новую жизнь, здесь никто не помешает мне быть евреем», — думал тогда мой отец.
И начал… И продолжал быть… И потянулись к нему евреи, те, кто не только по паспорту… Появилась в Биробиджане синагога, а при ней — небольшая община, в основном, из пожилых людей. Мой отец в ней — самый молодой. Нет, он никогда не был раввином, хотя мог бы им быть. Он был просто шойхетом (резником), и приходили к нему евреи не только курицу к шабату или празднику зарезать, но и просто так, поплакаться на свою нелегкую жизнь, посоветоваться, попросить о помощи – например, написать на иврите адрес на письме в Израиль родственникам.
Наша маленькая квартира была центром религиозной жизни евреев Биробиджана. Она располагалась в двухквартирном доме с маленьким участком земли. На этом участке мой отец построил сукку, единственную в Биробиджане. Перед Суккотом мы украшали ее диким виноградом. В сукку выносили обеденный стол и стулья, и в праздник к нашему дому шли люди. На заборе висли любопытные, изо всех сил пытаясь заглянуть туда, откуда доносились слова молитвы.
Сначала мне это было интересно, но я росла, и в моем сознании появились противоречия, мучившие меня. В школе говорили, что, мол, Бога нет, религия – это пережиток прошлого, а в Бога верят только темные безграмотные люди. Я наблюдала за своим отцом. Его никак нельзя было считать темным и, тем более, безграмотным. Папа владел несколькими языками, был начитан, прекрасно знал еврейскую и русскую литературу и даже писал фельетоны в местные газеты и в журнал «Крокодил». Но у него был «недостаток» — он верил в Бога.

Нина Майзлер (в кружочке), год 1952-й…
У меня в голове никак не укладывалось то, что я слышала вне дома и видела в доме. Сначала я всё это переживала молча и только вся сжималась от насмешек в адрес отца. Я сгорала от стыда и негодования, когда отец, открыв форточку, трубил в шофар. Я не могла понять, зачем ему это нужно. Не понимала, но никогда его об этом не спрашивала. Да и отец никогда не пытался навязать нам, детям, своего мировоззрения, но мы невольно была втянуты в эту его религиозную жизнь. Отец не заставлял нас учить Тору, молиться, ходить в синагогу. Может быть, потому что мы были девочки, а с мальчиками было бы иначе? Не знаю. Он только хотел, чтобы в стенах дома мы подчинялись законам этого дома: в субботу сидели за праздничным столом, соблюдали кашрут, и чтобы в Пейсах не приносили в дом хомец. В Пурим я разносила «шалахмонэс». Иными словами, хотели мы, дети, или не хотели, но жили жизнью своих родителей.
Однажды синагога сгорела. Отец пришел домой поздно, пропахший дымом, с красными, опухшими от слез глазами. Думаю, что если бы сгорела его собственная квартира, он бы не так убивался, как тогда. Не долго думая, отец велел всё, что уцелело от огня, перевезти в нашу квартиру, где на каких-то 34 кв. метрах жили шесть человек. Мы и так редко бывали дома одни, своей семьей, а тут еще в квартире расположилась синагога.
А потом отец стал думать о новом помещении для синагоги. Вечерами он писал письма в еврейские общины городов страны с просьбой помочь деньгами на новую синагогу. Папа работал на железной дороге и имел право на бесплатный проезд в любую точку страны. К тому времени он был уже на пенсии, и мог вернуться на Украину. Но остался жить там, где, как он считал, мог быть евреем. И вот отец, очень больной (туберкулез легких) отправился туда, где рассчитывал на материальную помощь для своей общины. И взял с собой меня. Мы гостили у родственников, побывали в синагогах Москвы, Киева, Жмеринки, Могилева. Отцу нигде не отказывали, и осенью в Биробиджане был куплен маленький уютный домик, в котором расположилась синагога.
Однажды папа принес домой черное плюшевое покрывало. В центре его он нарисовал шестиконечную звезду, а по краям написал какйе-то слова на иврите и стал вышивать гладью эти буквы.
— Дочка, ты можешь мне помочь, если хочешь, — обратился отец ко мне, десятилетней девочке.
Хотела ли я этим шитьём заниматься, сейчас не помню, но я села рядом и стала вышивать. Только спросила:
— Зачем это?
— Хоронить умерших, — ответил отец.
Мой отец хотел быть евреем и был им. Он не был раввином, но в их глазах он был главным в общине. Наш дом, как магнит, притягивал к себе евреев. И мацу на Пейсах тоже пекли у нас. Папа сам сложил большую, на всю кухню, русскую лечь. ОН и это умел. Он умел всё. А потом сколотил длинный стол, покрыл его жестью, смастерил длинные скамейки.
Мацу пекли для всех, но сначала — для бедных и больных. Пекли всей общиной, и дети помогали взрослым раскатывать тесто для мацы. Пекли несколько дней, днем и ночью. Я стояла рядом со старушками и прислушивалась к тому, что говорили они на идиш — на языке, который я понимала, но на котором не говорила.
А в праздник квартира наша преображалась. Мы не были богаты, скорее, наоборот, но в Пейсах всё было новое: занавески на окнах, салфетки на этажерке, скатерть на столе, покрывала на кроватях, новая посуда. И подсвечники сияли по-новому, и еда была самая вкусная. Вот только надо было дождаться отца из синагоги. Для него во главе стола был сооружен трон из подушек и приготовлена белая ритуальная одежда. И мы были в светлых платьях.
Отец возвращался из синагоги, все рассаживались за столом и начинался седер. Папа рассказывал нам Агаду, и я, никогда не любившая сказок, слушала, затаив дыхание. Сейчас я знаю, что Агаду читают, но отец читал ее наизусть; рассказывал плавно, будто пел, а я, с раннего детства наделенная богатым воображением, видела всё это будто наяву. Видела, но плохо верила во всё, что рассказывал отец. Всё больше и больше вопросов назревало в моей детской голове, но я не спрашивала ни о чем. Я боялась. Очень суровым был мой отец. Суровым внешне, но добрым и отзывчивым в душе. Я же в детстве больше видела его внешнюю сторону и побаивалась его.
Нашим воспитанием занимался тоже отец. Мать, моя мачеха, не вникала в нашу школьную жизнь. Совершенно безграмотная, она порой не знала даже, в каком мы классе учимся. Зато уж отец доходил до всего и наказывал за всё, что не отвечало его требованиям. Особенно наказывал меня за болтовню на уроках, за иногда получаемые тройки, за беспорядок в школьном портфеле.
— У них есть мать, и она всегда прикроет их, когда надо будет, — говорил отец о моих младших сестрах. — а у тебя, кроме меня, никого нет. Ты должна быть самой лучшей, самой умной, потому что, если меня не будет, тебе придется устраиваться в жизни самой…
Отец был нетерпим, когда мы делали то, что, по его мнению, делать было нельзя.
Как-то в русскую Пасху (мне тогда было 8 лет) я принесла домой крашеное яйцо, которым меня угостила соседка. Что тут было! Отец набросился на меня так, будто я принесла домой не яйцо, а бомбу. И действительно, это безобидное крашеное яйцо было для моего отца равносильно бомбе, грозящей разорваться в его доме.
«Шикса! — кричал он на меня. — Ты, моя дочь, стала шиксой!».
Я тогда еще не понимала, кто это — шикса, но спросить боялась: не то было настроение у отца тогда. Но наступило время, когда я, выбрав удачный момент, все-таки спросила у него:
— Папа, все говорят, что ты — поп. Это правда?
И опять отец взорвался, как тогда, когда я принесла крашеное яйцо:
— Нет, неправда! Я не поп! Попы только в церкви, а у нас, евреев, — синагога! В синагоге есть раввин. Но я даже не раввин, я только шойхет! Теперь тебе понятно? — кричал отец.
— Нет, не понятно, — ответила я и со слезами на глазах вышла из комнаты.
Когда папа успокоился, он объяснил мне, кто такой раввин и чем он отличается от попа. Отец рассказал мне тогда и об иудаизме. Я мало что тогда поняла, но хорошо уяснила, что я – еврейка и что мой отец принадлежит к иудейской вере.
Когда я стала значительно старше, я однажды все-таки спросила у отца:
— Папа, ты веришь в Бога, а вот говорят, что Бога нет…
— Он есть, — коротко сказал отец.
— Но тогда почему мы его не видим?
— Его нельзя видеть. В Него надо верить, — ответил, как отрезал, отец.
Я больше не лезла к нему с вопросами, внешне смирилась с религиозностью отца, но только внешне. По жизни я шла совсем другим путем – так, как меня учили в школе. Однажды, когда меня принимали в комсомол, мне дважды задали вопрос, разделяю ли я убеждения своих родителей. Спрашивали учителя-евреи, евреи по паспорту. Я тогда ответила, что нет, не разделяю, но они — мои родители, а родителей нужно уважать. Тогда меня об зтом спросили люди, которые, как и я, не думали, что остаток жизни им придется прожить на своей исторической родине. Сейчас они, быть может, читают эти мои воспоминания, но я сомневаюсь, что они захотят вспомнить то время, когда считали себя евреями только по паспорту.
А мой отец был евреем настоящим. И старался воспитать еврейкой меня, насколько это было возможно.
Однажды, когда он лежал уже совсем больной, прикованнный к постели, он подозвал меня:
— Послушай, дочка, я тебе почитаю про еврейского мальчика Мотла.
Отец не мог работать и всё своё время проводил за чтением. Это он научил меня любить книги, на которые при нашей бедности он никогда не жалел денег. Он читал мне на идиш. Я хорошо понимала, что читал отец, и мальчик Мотл представлялся мне с лицом сына нашего соседа Шлоймеле, который впоследствии стал моим мужем. Так состоялось мое первое знакомство с произведениями Шолом-Алейхема.
— Папа, научи меня писать и читать по-еврейски, — попросила я тогда отца.
— А зачем тебе? – спросил он.
— Чтобы читать Шолом-Алейхема.
— Я не думаю, что тебе необходимо учить еврейский язык, а читать Шолом-Алейхема ты можешь и на русском языке, — ответил он мне.
Не знаю, почему отец не захотел тогдо обучать меня родному языку: может быть, боялся навредить чистоте моего русского языка, а может быть, просто в то время боялся за меня. Не желая обучать меня языку, на котором сам думал и говорил, отец всё-таки привил мне любовь к мамэ-лошн, и уже в зрелом возрасте я самостоятельное научилась писать и читать на идиш. И прочитанные в юности в русском переводе произведения Шолом-Алейхема с удовольствием перечитала в подлиннике.
http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=215

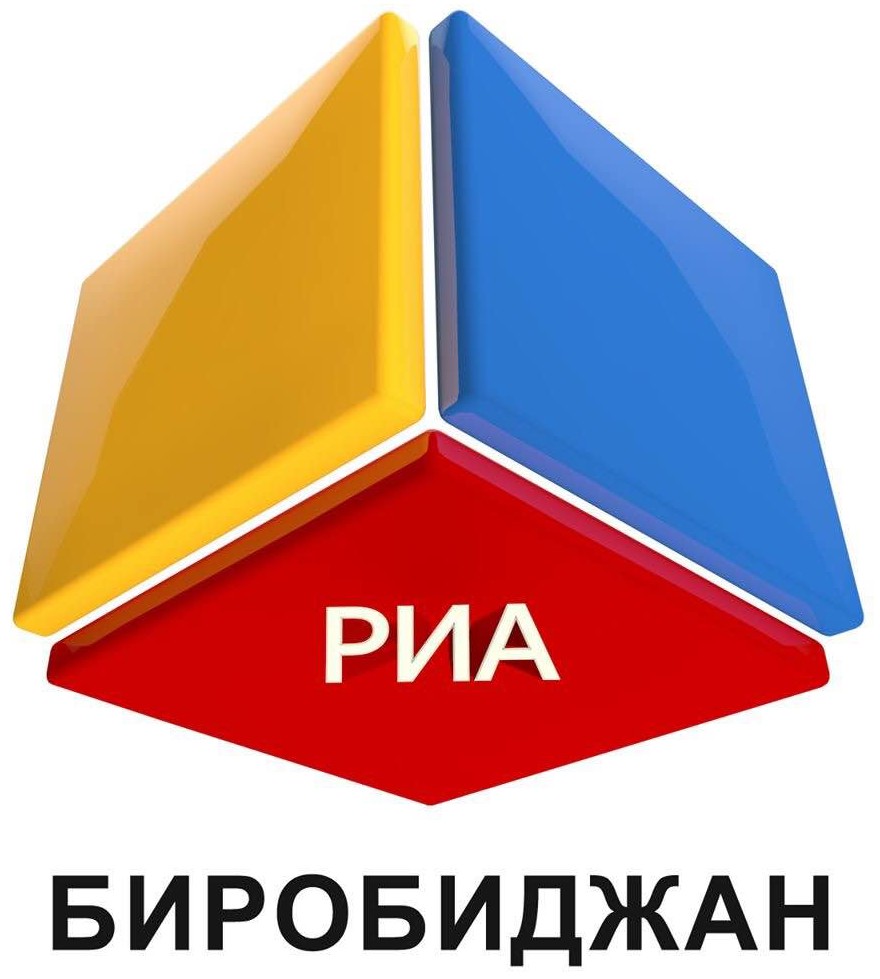
 ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО
ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО

 ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО
ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО










